РОДОСЛОВНАЯ
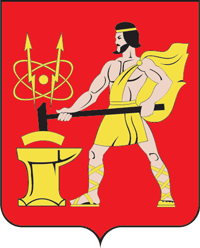
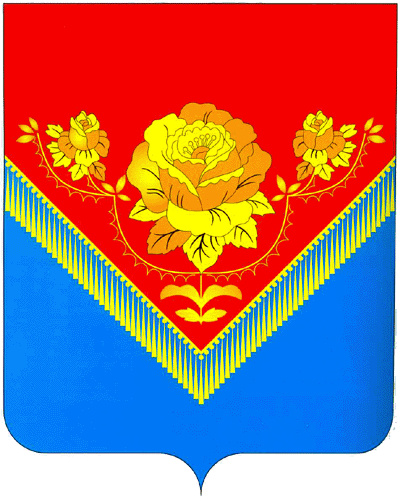
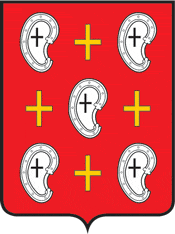
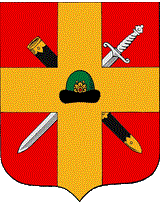


| ЗЕНКИНЫ | ЯРИКОВЫ | СУШНИКОВЫ | УЛЬЯХИНЫ | ЗЫКОВЫ | ШИПАРЕВЫ | БЕКРЕНЕВЫ | КОЧЕТКОВЫ | |
| Зенкина Анна Захаровна (1914-2001) | Яриков Федор Кузьмич (1915-1942) | Сушникова Марфа Игнатьевна (1897-1970) | Ульяхин Петр Иосифович (1898-1943) | | Зыков Сергей Михайлович (1906-1976) | Шипарева Клавдия Васильевна (1912-1996) | Бекренев Степан Васильевич (1904-1979) | Кочеткова Анастасия Ивановна (1914-1987) |
| Ярикова Александра Федоровна (1937-2025) | | Ульяхин Александр Петрович (1932-2014) | | Зыков Иван Сергеевич (1940-2016) | Бекренева Нина Степановна (1942) | |||
| Ульяхин Василий Александрович (1961) | | Зыкова Ирина Ивановна (1966) | ||||||
| Ульяхин Антон Васильевич (1990) |
История каждой отдельно взятой семьи складывается из историй людей, оставивших родовой след и, в том числе, след в истории самого государства, в котором они когда-то жили и были свидетелями его непростого становления.
В истории моего рода три из четырех основных фамильных ветвей, носителями которым были предки Ульяхины, Яриковы, Зыковы и Бекреневы, развивались в пограничных условиях Московского государства на рубеже XVI-XVII веков. Живущие в основном в южных и юго-восточных от Московии землях, эти люди на протяжении не одного столетия испытывали немалые трудности «пограничной» жизни, с которыми не сталкивались те, кто жил внутри страны. В отсутствие какой-либо стабильности, шаткое и неустойчивое положение привносило свою долю антиконсервативности и накладывало неизбежный отпечаток на моих пращуров. Все они прошли через отборное сито жизни, став своего рода победителями в борьбе за настоящее, в котором живу я и мои родные. Борьба эта происходила часто не без лишений, вызванных внешнеполитическими событиями – бесчисленные вражеские набеги (от крымских татар до казаков), восстания, интервенция, крестьянские войны, Вторая мировая война. При всем притом совершенно нельзя исключать, что сами предки, хотя бы частью своей, являлись непосредственными участниками вышеперечисленных событий, не считая ВОВ.
Рассматривая пращуров в контексте пестрящих в российской истории вычурных и кровавых событий, порой сложно говорить об их степенности и патриотизме. Здесь скорее проскальзывают нотки вольнодумного анархизма со всеми вытекающими. Так мои предки по линии Зыковых в период Смуты писали польскому военачальнику Ягу Сапеге, присягая на верность Лжедмитрию II. Не могу исключать, что они принимали участие в деятельности диверсионных отрядов, которые останавливали и, порой, ликвидировали тех представителей правительственных войск, кто пытался прорваться к Москве. Как знать, может быть, сказывалось их возможное новгородское происхождение, когда сопротивлявшихся карательному войску Ивана Грозного, новгородцев насильно переселяли в дремучие и неприглядные места в Замосковье подальше от внутриполитических очагов нестабильности. Непосредственные прямые предки Ульяхины, вообще могли появиться в пределах Московского государства с польско-литовскими войсками в период интервенции. По крайней мере, находятся доказательства в пользу той версии, что за свои антигосударственные деяния во время Смуты они были закрепощены и насильно поселены на самом юге современной Калужской обл., где прожили до самой войны 41-45 гг. Некоторые из предков имели прибалтийские и польско-белорусские корни. Другие предки по линии Бекреневых были среди тех, кто во время казацко-крестьянской войны под предводительством Степана Разина находились в числе повстанцев, противоборствующих правительственным войскам. В этих несогласных сопротивленцах, потомках украинских или донских казаков, мордовских народов и татар, был истинный дух бунтарства. Только предки Яриковы «верой и правдой» служили первым Романовым и не по своей воле, а потому что так решил царь. Находясь не одно поколение в полковой службе, будучи представителями сословия детей боярских, они испытали на себе все тяготы и лишения, которые сулила им жизнь служивого, а не привязанного к своей земле и владельцу крестьянина. Никакой стабильности, когда доходило до того, что спать они ложились, не снимая сапог, потому что любая тревога не должна застать врасплох. Однако и среди них находились те, кто пытался не прогибаться под систему. В чем это выражалось? Например, в отказе добровольно участвовать в строительстве петровского флота. Признаться, я их здесь прекрасно понимаю, потому что, хоть и с трудом, но все-таки представляю себе, какого было при Петре I и участвовать в военных походах ради торговых черноморских путей и еще строгать и конопатить бесчисленное количество стругов для этих же самых походов. Мне бы дико хотелось узнать, о чем тогда думали мои предки, когда видели на корабельной верфи будущего первого российского императора, который дал им понять, что нужно работать еще быстрее и результативнее. Последствия этой работы можно видеть сейчас на бескрайних черноземных полях Липецкой области, которые некогда были дубовыми лесными рощами, перешедшими в уголь для железоделательных заводов Липецка и, собственно, в деревянный флот. После военных петровских реформ Яриковы отказались служить дальше, не получив, таким образом, дворянства. Они стали однодворцами, пока при императоре Александре II вовсе не были понижены до крестьян. Говорят, при личностном прогрессе возможен переход «из грязи в князи». У моих же предков было все с точностью до наоборот. Хочу заметить, что не только Яриковы приложили свою руку к формированию отечественного флота и всего того, что за этим фактически последовало. Так Ульяхины столетиями выращивали коноплю целыми полями, которая шла на изготовление на сформированной Яковом Вилимовичем Брюсом фабрике важнейшей корабельной оснастки: парусов и канатов, поставляемых в Петербург. Другие по части своей занятости не отличились стратегически важным для страны образом. Отчасти потомки рязанской мордвы, Зенкины в XIX веке на своем бондарном промысле входили в когорту успешнейших и богатейших крестьян империи. В моей родословной это самый мобильный род, который с конца XVIII века, куда только не ни ездил и где только ни жил: от Саратовщины до Астрахани. А из Зыковых к середине XIX столетия получатся мелкие предприниматели в современном понимании, изготавливавшие и продававшие медные изделия. Однако вторыми Морозовыми они не стали, как и не смогли стать мещанами.
Мои предки до советского времени врастали в землю мощнейшими родовыми корнями, на которой жили из века в век. Однако уже третье и максимум четвертое поколения можно смело назвать мигрантами, которые, в силу обстоятельств, складывающихся под диктовку событий довоенного, военного и послевоенного периодов XX столетия были вынуждены бросать веками насиженные родные места ради новой и лучшей жизни. Одним словом, миграционная проблема является острой не только в наше очень мобильное время. Она вставала на пути уже тогда, когда, не будучи привязанным к поместным землям, многочисленное крестьянское население в лице каждого отдельно взятого человека начинало совершать настоящее броуновское движение. Словом, я являюсь потомком мигрантов, которые все в итоге сошлись в одном конкретном месте, являющееся моей малой родиной.
В Московскую область, а точнее в город Электросталь, приехали раньше всех остальных мои предки Бекреневы по линии мамы. Случилось это в самом начале 30-ых гг. прошлого века, когда прадед, Степан Васильевич Бекренев, перебрался с братьями из села Покровск республики Мордовия, где прежняя сельская жизнь закатилась. Перебрался сюда, к месту стройки «большой Электростали», в которой яркое свечение от раскаленного металла в заводских литейках давало свет надежды на благополучное будущее. В тогда еще поселке Степан Васильевич устраивается на завод «Электросталь», где проработает 26 лет до самой пенсии. В городе Электросталь в 1942 году родилась моя бабушка – единственный человек в третьем колене, имеющий городское, а не сельское или деревенское происхождение. Позднее в городе родятся мама и я.
Следующими прибыли в Московскую область в пос.им.Воровского предки Яриковы и Зенкины по линии отца в середине 30-ых гг. Прадед Яриков Федор Кузьмич приехал из села Махоново Липецкой области, устроившись работать шофером до самого начала войны. Его будущая жена, Анна Захаровна Зенкина, приехала к месту ворОвских (храпуновских) торфоразработок из села Лакаш Рязанской области, вырвавшись из непосильной рабочей среды благодаря документам своей старшей сестры, с именем и годом рождения которой жила до конца жизни. На торфопредприятии им. Горького у нее была тяжелая для женщины работы грузчицей. Здесь, в этих болотистых и неприветливых местах, где активно велась добыча торфа, родилась в 1937 году моя вторая бабушка, а затем и отец.
Третьими прибыли в Московскую область в начале 1943 года мой дед Ульяхин Александр Петрович вместе с матерью, братьями и сестрой, поселившись в пос.им.Воровского. Прежде, чем осесть в местах, знаменитых своих храпуновским фарфором, Ульяхины преодолели долгий и тяжелый путь, начавшийся в родной деревне Речица Калужской области. Во время августовской операции 1942 года в результате налета нашей авиации был уничтожен вместе с немецкой техникой дом Ульяхиных. Прабабушку с детьми и другими беженцами немцы перебросили на эшелоне в Орловскую область, где они жили в деревне Березовка до начала 1943 года. Переезд семьи в пос.им.Воровского организовывает моя двоюродная бабушка, Девисилова Мария Петровна. На новом месте дед еще будучи несовершеннолетним работает подпаском, после устраивается слесарем на торфопредприятии им.Горького, а уже потом на Электростальском химико-механическом заводе, где проработает 45 лет.
И, наконец, последним приехал на учебу в Электростальское ремесленное училище из деревни Дергаево Павлово-Посадского района в 1955 году мой второй дед, Зыков Иван Сергеевич. По окончании учебы в 1957 году он устраивается в кузнечный цех завода Электросталь, где проработает ровно 50 лет. Зыковы – единственный род в моей родословной, который ведет свое начало из Московской области. Как можно понять, все это были люди исключительно рабочего класса, дети крестьян, некоторые из которых успели за века понизиться в сословии. Их укоренили на новом месте жительства в итоге две важные составляющие – торф и сталь.